Как известно, с проблемой алкоголизма в разных странах борются по-разному. Где-то не борются вообще — других дел хватает. Где-то полагаются на социальную рекламу и другие способы повышения сознательности. Но считается, что наиболее эффективный метод все-таки лежит в области репрессий — если сделать алкоголь менее доступным, подняв его цену, сократив разрешенное время продажи или вообще убрав с прилавков, его потребление снизится.

В рейтинге потребления алкоголя на душу населения наша страна традиционно занимает первые строчки, но мы не единственные, кто вынужден решать эту проблему. И какими бы убедительными ни были рассказы о том, что-де на Руси всегда пили, пьют и пить будут, наиболее самоотверженных алкашей я видел не в России, а в соседней Финляндии. Чартер из Хельсинки — прекрасное место, чтобы расширить свои представления о человеческих возможностях: стюард, проходящий по рядам, останавливался у каждого (sic!) пассажира, который заказывал стандартный набор — маленькая бутылочка шампанского, баночка водки, баночка томатного сока. Вместо шампанского иногда было вино или пиво, вместо водки джин или виски, вместо сока тоник или кола. Этим разнообразие исчерпывалось. Пройдя до конца салона, стюард вернулся и снова начал свой путь, а потом проделал это еще раз. В отличие от наших людей на отдыхе, финские туристы не вставали со своих мест, объединяясь по интересам, не пытались познакомиться с симпатичными дамами и, к счастью, не устраивали драк. Им было не до этого. Они были сосредоточены настолько, словно занимались самым важным делом в жизни. Когда по прилету каждый второй выходил из самолета, держась за стену, я не удивился, хотя не видел такого ни до, ни после.
В Финляндии, как и по всей Скандинавии, установлена государственная монополия на торговлю алкоголем, но проблемы если не алкоголизма, то во всяком случае высокого потребления спиртного полностью решить она не в состоянии: его уровень остается одним из самых высоких в мире.
И именно в этом месте мой внутренний экономист чувствует какой-то подвох.

Задумайтесь сами. В самой сути государственной монополии на алкоголь уже заложен конфликт интересов, поскольку такая монополия преследует сразу две цели: во-первых, увеличить рост поступлений в бюджет (для чего люди должны пить больше), во-вторых, снизить потребление алкоголя на душу населения (для чего люди должны пить меньше).
Разумеется, цель максимизации прибыли не декларируется никогда и нигде, но если отвлечься от социального аспекта и рассуждать логически, такая монополия — настоящая золотая жила. Только представьте: у вас есть все рычаги для регулирования цены (ведь вы — государство), вам не нужно тратиться на рекламу (ведь больше купить спиртное все равно негде), наконец, вы работаете на рынке с традиционно высоким спросом. Станете ли вы собственноручно ломать этот спрос, будучи в своем уме? Разве что до уровня «покупатель купил одну бутылку водки вместо двух, но заплатил как за три».
Такой подход сродни платной медицине: врач, который лечит за деньги, в последнюю очередь заинтересован в том, чтобы все стали здоровыми, но согласится работать меньше, получая при этом больше. Но медицина — явление немного из другой оперы, да и тяга к алкоголю, в отличие от болезней, на ровном месте не появляется. В общем, я считаю, что государственная монополия на алкоголь — отличное коммерческое предприятие, но весьма посредственный способ борьбы с алкоголизмом. Пример стран, где она введена, мои домыслы подтверждает.
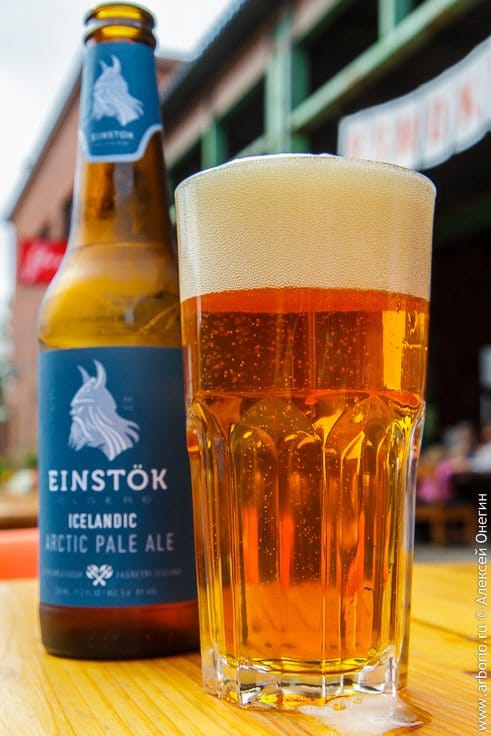
Как же бороться с таким безусловным злом, как алкоголизм? На мой взгляд — только просвещением и внедрением того, что называют культурой пития. Лучше каждый день выпивать бокал-другой вина, чем раз в месяц — бутылку водки, особенно учитывая, что первую модель потребления можно сохранять всю жизнь, а вторая, как показывает практика, довольно быстро приводит к тому, что человек, что называется, срывается в штопор.
А что об этом думаете вы? Как бы вы поступили, если бы завтра вам позвонили из правительства и предложили возглавить борьбу с алкоголем?..
